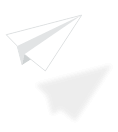Рецензия на спектакль «Женитьба» (2025) в Театре Моссовета: хор, символы и новая энергия классики
 Спектакль «Женитьба». Фото представлены Театром и выполнены Кристиной Вануни
Спектакль «Женитьба». Фото представлены Театром и выполнены Кристиной Вануни
19 апреля 2025 года в Театре Моссовета состоялась премьера — «Женитьба» Николая Гоголя в постановке режиссера Евгения Марчелли. Для художественного руководителя эта работа стала попыткой соединить классику XIX века с современными художественными приемами. Наш театральный обозреватель Рената Белялова посетила показ 29 августа и поделилась впечатлениями в рецензии на спектакль «Женитьба» в Театре Моссовета.
Сюжет
Евгений Марчелли, режиссёр постановки и художественный руководитель театра, решил совместить талантливый язык пьесы с экспериментальной задумкой, добавив долю нашей современщины. Поэтому нельзя однозначно сказать, когда происходит действие: и не сегодня, и тем более не во времена Гоголя. Возникает вневременное художественное пространство, собравшее всё лучшее от обеих эпох — красоту и стройность литературной речи, лёгкость лаконичных современных словечек, изысканность пышных костюмов и атмосферу серого минимализма.
Начнем по порядку. Первое, что встречает зрителей — афиша спектакля: невеста, сидящая спиной, изображена в позе отчаяния. Этот образ явно отсылает к постеру фильма Пабло Ларраина «Спенсер» (2021), где показан переломный момент в жизни принцессы Дианы, решившей расторгнуть брак с принцем Чарльзом. Вряд ли такое сходство можно назвать случайным. Диана, как и брошенная у алтаря Агафья Тихоновна, оказалась жертвой общественного давления. На постере отражено тяжелое эмоциональное состояние принцессы: разбитая, одинокая, вынужденная переживать разочарование и боль от иллюзорной любви и долга перед короной.

Абсолютно так же предстает и героиня гоголевской пьесы. Она мечтает о замужестве и готова выйти за любого, лишь бы это был дворянин. С одной стороны, Агафье несимпатичны приехавшие женихи, но, с другой — она легко увлекается каждым из них (по версии Марчелли, даже женатым другом Подколесина) и готова вступить в брак хоть с одним, хоть с другим. Она решается тянуть жребий, хотя вовсе не нужда толкает ее на поиски мужа: у Агафьи есть и приданое, и красота, и образование. Но, как заметил Александр Герцен, женщина оказывается «загнана в любовь».
После убеждений друга Подколесина, что именно его товарищ — лучший кандидат, Агафья мгновенно переносит свои чувства на седого надворного советника. Она наслаждается беседой, хотя разговор не клеится, и первой делает шаг к поцелую. Она боится, но уже готова дарить свою любовь. В то же время сам Подколесин предпочел бы полежать на новомодной кушетке, чем связывать себя браком, но решается лишь потому, что «все женятся — и мне пора».

После поцелуя в нем просыпается мнимая влюбленность, и он произносит гениальную речь — блестяще сыгранную Александром Яцко на сцене Театра Моссовета. Подколесин возносит брак до абсолютной ценности, утверждая, что без исключения все должны венчаться. Но вскоре приходит осознание: все это навязано ему обществом. Он понимает, что через минуту его поведут к алтарю, и все будет «кончено». Жених понимает, что с легкостью может подойти к окошку, выйти на улицу и остаться свободным. В итоге Подколесин убегает не только из-под венца, но и от принуждения соответствовать системе.
А «загнанная в любовь» Агафья остается внутри нее и переживает случившееся с трагизмом, который был ей уготован. Точно так же, как и принцесса Диана: пытаясь выйти из системы, она все равно оказалась ее жертвой.

Режиссерское решение
Гоголь создает в пьесе множество точек напряжения. Перед режиссером стояла непростая задача — найти способ выразить их. Полагаться только на актерское мастерство сегодня уже не так актуально, поэтому Марчелли нашел особое художественное решение, способное передать внутреннюю бурю невесты.
Этим решением стал хор из пятнадцати девушек с хрустальными голосами. Перед гаданием, во время общения с женихами, в миг осознания предательства Подколесина — в каждом ключевом эпизоде звучит акапельное исполнение народных и свадебно-обрядовых песен. Пение девушек в красивейших сарафанах и усыпанных бисером кокошниках завораживает и усиливает переживание невесты, делая именно его главным героем всей постановки. Сильнейшее впечатление производит заключительное исполнение — особенно яркое и мощное (оно и понятно, невеста брошена у венца). В этот момент пение звучит не только со сцены — в центре зрительного зала появляется в горящем бисере исполнительница — и трогательная песня разносится эхом по всему театру.

Важную роль играет и сценография. Она подчеркнуто минималистична, словно отражает пустоту и одиночество персонажей. Первый акт разворачивается на наклоненной платформе. На ней появляется то кушетка Подколесина, то расставлены стулья для женихов Агафьи Тихоновны — но ничего больше. Зато, когда поднимаются кулисы перед вторым актом — зал замирает от восхищения: на сцене возникает белая комната с ажурной лепниной и огромной люстрой под потолком. Настоящая дворцовая зала, которую увидишь не во всяком спектакле. Но и она остаётся без мебели, как и невеста — наряженная в свадебный сарафан, но лишенная настоящего чувства.
Актеры и роли
В постановке задействованы яркие актеры, каждый из которых создает запоминающийся образ. В другом составе в главной роли невесты — Анастасия Белова. Роль свахи Феклы Ивановны исполняет народная артистка Ольга Остроумова, а в образе тетки невесты выходит Марина Кондратьева. Подколесина играет Александр Яцко, его нерешительного друга — Валерий Яременко. Озабоченного наследством жениха по фамилии Яичница воплотил Сергей Виноградов. Саму Агафью Тихоновну, центральную героиню спектакля, играет Ника Здорик.

На сцене также появляются Роман Кириллов, Андрей Рапопорт, Андрей Смирнов, Камиля Фасахова и Александр Попело.
Особенно цепляет игра Валерия Яременко. Поначалу может показаться, что актер слегка перебарщивает с жестикуляцией и эмоциональностью. Но по мере развития спектакля становится очевидно: именно эта выразительность помогает его персонажу работать на контрасте с сдержанным Подколесиным Александра Яцко и хрупкой, ранимой Агафьей Ники Здорик.

Итог
Евгений Марчелли создал нестандартную интерпретацию классики русской литературы, выделив ее среди прочих постановок этой пьесы, красивейшим образом показав зрителям пение девичьего трепета. Спектакль полон переплетений с нашей действительностью, трагедией Дианы и вообще женской сутью, которая была одинакова во все времена, что подтверждает бессмертие гоголевского текста и могущество русского театра.
Спасибо, что вы с нами!