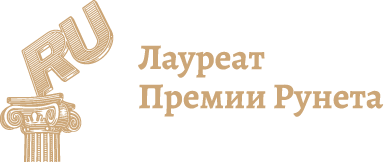Александр Прошкин: «Я умудрился Москву снять в Питере»
Гость – кинорежиссер, народный артист России Александр Прошкин. Ведущие – Елена Афонина (Москва) и Сергей Неделин (С.-Петербург).
Афонина:
– Сегодня к нам поговорить о жизни, о Питере, о Москве пришел известный кинорежиссер, лауреат Государственной премии СССР, народный артист России Александр Анатольевич Прошкин. Человек, который живет и работает долгие годы в Москве, на самом деле, был рожден в Питере. И как вы ощущаете эту часть своей жизни?
Прошкин:
– Для меня неожиданно, что сегодня возникает питерская тема. Я начинаю бередить раны. Потому что Питер – это молодость, юность, первое ощущение, что жизнь прекрасна. Для меня Питер всегда останется самым лучшим, что было в моей жизни. Я всю жизнь ностальгирую по Питеру. И когда приезжаю в Питер с картинами, на Выборгский фестиваль, страшно нервничаю. Мне скажут: как я, гад такой, уехал, предал и продал… У меня совершенно другое чувство. Возвращается некое вибрирование юности.
Неделин:
– С этим трудно поспорить.
Прошкин:
– Однажды я снимал картину для телевидения «Опасный возраст». Действие происходит в Москве, я умудрился Москву снять в Питере. Где-то подсняв что-то в Москве, но в основном я снимал в Питере. Душа моя еще там.
Афонина:
– А обратного хода не было?
Прошкин:
– Я стараюсь вообще Москву не снимать. Даже там, где мне нужно снимать. Я в основном снимаю картины исторические, другая эпоха, то реконструировать эпоху в Москве немыслимо. Скажем, в «Докторе Живаго» я Москву снимал 20-30-х в Ярославле. Ярославль архитектурно был построен по плану Москвы. И там замечательные старые улочки. И все это напоминает старую Москву. А в старой Москве уже ничто не напоминает московский дух. Кругом евроокна, рекламы, вывески… Все архитектурное своеобразие Москвы стирается, приводится к некоему среднему знаменателю современной жизни. Хотя, думаю, ни в Риме, ни в Париже никто не позволит в старых районах всобачивать евроокна. Не дадут.
Афонина:
– А вы можете сказать, что москвич не тот… Или питерец.
Прошкин:
– Мы должны жить мифами. Мне всегда кажется, что санктпетербуржцы – рефлексирующие, думающие, интеллигентные, а Москва энергичная и мощная, живая и хамоватая. Но однажды я приехал в Питер на выбор натуры. На машине мосфильмовской. И проезжал мимо стадиона, где был матч «Зенит» – «Спартак». И «Спартак» проиграл. Нас окружила дикая беснующаяся толпа, которая готова была перевернуть машину. Я вылезаю из окна, кричу, что я – питерский, я зенитовец. И, может, только это нас и спасло. Слухи о интеллигентности Питера, может, немного преувеличены.
Неделин:
– Может, дело в новых поколениях, в новых людях?
Прошкин:
– Это естественный процесс. Дело в смене тренда. Даже новые люди, если бы эта мифология культурной столицы оставалась, они бы себе многого не позволяли…
Афонина:
– Была же картина «Увидеть Париж и умереть». Это же миф. Париж был тем мифом, к которому в 90-е стремились люди.
Прошкин:
– Нет. Это я снимал картину про начало 70-х, когда увидеть Париж было невозможно.
Афонина:
– Но снималась она в 90-е, когда символ, возможность уехать из страны была так же актуальна, и такое же горячее желание было, как и в то время. В 70-х. Сейчас что можно поставить на пьедестал? Увидеть что?
Прошкин:
– Разные проблемы. Когда в 70-х фраза «увидеть Париж» это все равно, что увидеть Марс. Возможности этой не было. Люди говорили это всуе, понимая, что они жизнь проживут… Эту фразу говорила моя мама, которая никакого Парижа в своей жизни не увидела. А сейчас… Мне кажется, в этом смысле возможности все открыты. И, к сожалению, Париж видят иногда и те, кому лучше бы и дома посидеть, не особо выставлять себя в Париже. Но, самое главное, изменилось некое ощущение. У нас есть квасное патриотизм. Кругом у нас сплошные враги, мы самые, самые… С другой стороны, нет чувства родины. Оно какое-то…. Патриотизм показной и вульгарный. Неестественный. Выращенный внутри. И поэтому падает интерес к культуре.
Что такое культура? Она с младенчества воспитывает в вас чувство родины. Сейчас вырастает поколение, которое жизнь в Америке знает лучше, чем нашу. Оно живет мифами. И люди получают образование и первое, что думают, как бы нам отсюда учесать. Это ужасно.
Афонина:
– Сегодня очередной день рождения у Никиты Михалкова. Вот уж кто в кинематографе воспринимается как человек весьма патриотично настроенный!
Прпошкин:
– Хочу Никиту Сергеевича поздравить и пожелать ему здоровья, покоя и творческих достижений.
Афонина:
– Покой ему только снится. Создается ощущение, что он двигатель. Кто-то идет за ним, создает свои произведения, потому что он на это вдохновляет. А кто-то с ним постоянно спорит. Или я преувеличивая роль одного человека во всем российском кинопроцессе?
Прошкин:
– Я думаю, вы несколько преувеличиваете. Он яркий и талантливый человек. И он уже имеет свое место в российском кинематографе, в российской культуре. Думаю, в мировой кинематографической культуре. И честь ему и хвала.
Но кино – дело индивидуальное. Групп, компаний, партий… Как только все это такое появляется, то уходит цена отдельной личности. Мы интересны только в то т момент, когда это мой личный взгляд. И зритель – мой собеседник. Объединения в партии и в группы в кино, мне кажется, мешает. Может быть объединение по административным, социальным вопросам. Может быть борьба творческих платформ глобальных. Но всегда должна просматриваться личность и индивидуальность. И поэтому говорить о том, что один человек катализирует весь процесс или убивает его, к сожалению, интеллигенция в том самом советском смысле сейчас не существует.
Афонина:
– Крамольная мысль, на взгляд некоторых…
Прошкин:
– Это естественный процесс. Интеллигенция по-настоящему существует только при тоталитарном режиме, потому что тогда она понимает, кто враг. И ее задача – смягчить нравы, которые угнетены тоталитарным единомыслием. И дать им возможность почувствовать себя личностью. И каждому мыслить самостоятельно.
Сейчас у нас как бы свободное время. Но поскольку ментально мы не меняемся так быстро, психология даже у молодых и юных, которые не жили при советской власти, но генетически они являются продолжателями. Потому что все то, что было в их родителях, генетически перешло и к ним. Пока что мы существуем неведомо в каком обществе, которое уже не советское, но еще не свободное демократическое. Сегодня мы говорим о том, что мы победили тоталитаризм, избавились от советского мифа и прочее. С другой стороны, в нашей жизни незаметно восстанавливаются все те самые институты, которые были тогда. И все те приоритеты, которые тогда были. Тихо и исподволь…
Афонина:
– Для интеллигенции это значит хорошо.
Прошкин:
– Вот интеллигенция в этих условиях, поняв, что как бы свобода, воспринимает ее как свободу выяснения отношений друг с другом. Когда я снимал «Холодное лето…»… Про что я снимаю эту картину? Был 87-й год. И ничего не было ясно. Эта картина о свободе. И у меня было первое ощущение, что если у нас наступит свобода, которая, конечно, будет дарована сверху, потому что в нашей стране по-другому не бывает, то это, в первую очередь, обернется свободой, вседозволенностью криминала. И я как в воду глядел. В этом смысле. И не только в 90-е. Думаю, эта традиция и по сей день существует, потому что коррупция тотальная является таким же криминалом, как и откровенный бандитизм.
А интеллигенция… Она выдержала с честью испытания во многом того времени. И не очень выдержала испытание этого времени. Часть уехала. Та часть, которая понимает, что она здесь не так востребована. Скажем, выдающиеся наши музыканты, композиторы. Они считаются русскими, но живут в Мюнхене, в Париже, а сюда приезжают на гастроли. Мы ими гордимся. Но они часть того социума.
Афонина:
– Но наши ученые тоже уезжают за границу и получают там Нобелевские премии…
Прошкин:
– Потому что здесь они не востребованы. Там они могут работать и достойно существовать. Не в материальном смысле! Они могут реализовывать свои идеи. Материальный фактор, несомненно, существует. Для одних имеет большее значение, для других меньшее. Но я уверяю, это не главное. Главное – реализовать то, что бог в него заложил. Дар. А что касается тех соблазнов, которые в нашей стране, на Западе нет…
Афонина:
– А почему в своих картинах вы постоянно делаете отсыл в 60-е, в 70-е? Что вы там хотите найти? Почему ваши герои не здесь и не сейчас существуют?
Прошкин:
– У каждого из нас должна существовать своя тема, своя глобальная идея. Я глубоко убежден, что то, что происходит сейчас, препарировать сегодня довольно сложно. Все наши беды заложены в нашей трагической истории 70-летней. И пока мы окончательно не расставим все точки над «i» в своем прошлом, у нас будет Сталин то убийца, то великий менеджер, то национальный герой, то душегуб и прочее. Рецидивы прошлого все время над нами будут висеть. И, мне кажется, это главная задача нашей культуры. Немецкому кинематографу после страшной драмы, которую пережила Германия, фашизм, проигранная война и прочее, удалось изменить просто нацию. Это одна из агрессивных наций и стала одной из самых совестливых. И люди несут в других поколениях чувство вины и ответственности за историческую вину своих дедов и отцов.
Неделин:
– У нас несколько иная ситуация. Не кажется ли вам, что это достаточно рисковое и тяжелое занятия – снимать исторические фильмы во времена, когда эта история чуть ли не каждый день переписывается.
Прошкин:
– Она потому и переписывается, потому что в обществе не существует потребности до конца высказаться и разобраться. Почему в немецком обществе вся интеллигенция объединилась в едином желании сказать всю правду до конца? И последствия этого ощутимы и очевидны. Попробуйте в Германии нарисовать свастику. А у нас в стране, в которой 26 миллионов человеческих жизней положили в этой войне, можете увидеть на заборе свастику, пацанов, которые с фашистским приветствием. И оголтелый, уродливый национализм проявляется. Ксенофобия. А она чревата кровью.
Это все последствия того, что до конца правду не сказали народу, обществу. Новое поколение вообще не имеет представления. Для них советская страна – гигантская империя, которая угрожала всему миру, была уважаемая, построила… Чего же она лопнула, если она такая великая? Может, что-то человеческое и важное за это время мы прозевали? Я уж не говорю о том, что эта страна и власть, которая беспрестанно уничтожала собственную элиту. Сначала она уничтожила российскую элиту… Затем появившуюся новую советскую. И следующее поколение. Это самоуничтожение нации, самогеноцид. Страшнейшее испытание. Ни один народ такого не знал. И не выдержал бы. Только сильный народ мог пройти через это испытание, сохраниться.
Звонок, Сергей:
– У нас еще один гнет есть. Нам, простому народу, гнет телевидения. Вот это гнет! У нас в Красноярске 800 ученых, профессоров. А мы их не видели никогда. А «Голых и смешных» каждый день.
Прошкин:
– Я, скорее, на стороне позвонившего слушателя. Я с этого рода телевидением беспрестанно воюю. Я не работаю сейчас для телевидения. Потому что это на сегодня инструмент подавление в человеке человеческого. Беспрестанно насилие, комбинации примитивных человеческих взаимоотношений. Надо людей немножко пугать. Все то, что происходит: кровянка бесконечная, разборки, менты, они все время нас держат в состоянии неуверенности. Неуверенности в жизни. Это идеальный электорат. Это не люди, это электорат. Им можно манипулировать. И вот, я думаю, что одна из причин такого телевидения, они же во всем мире разные. Наше, может, по качеству, во многом выше других. Но там другие задачи. Скажем, английское телевидение в первую очередь считает, что телевидение – это информация. Научная. Иногда мы по «Культуре» видим замечательные фильмы о природе, о науке. Людям нужно вкладывать некое знание жизни. И представление о том, что человечество накопило определенные невероятные ценности. И это телевидение занимается еще и социальными задачами. На британском телевидении социальные фильмы о жизни, о рабочих окраинах, их много. И люди их смотрят и обсуждают. Где вы у нас видите рабочего на экране? Не сусальную деревню со смазливыми милиционерами, а нищую и страшную, которая есть?
Афонина:
– В программе «Пусть говорят» в Андрея Малахова. Там все язвы нашего общества, все, что вы не хотели бы видеть вообще никогда.
Звонок, Ирина:
– Вы все очень точно говорите. Но почему наша интеллигенция, творческая, такие люди, как вы, почему они не могут пообщаться с нашим президентом, премьером? Объяснить, что телевидение все рамки переходит, оболванивания. Почему все уходят в тень? Почему не помочь обществу? Простые граждане просто кричат в эфире и их никто не слышит?
Ваши фильмы исторические очень серьезные и ценные. Какой бы исторический персонаж вы хотели бы еще экранизировать?
Прошкин:
– Если вы послушаете то, что говорит наш президент , он говорит то же самое, что и я. Но ничего не меняется. Фильмы о Николае Ивановиче Вавилове, которые «Культура» недавно повторяла. Спасибо им. Или «Доктор Живаго». Я поднимаю глобальные вопросы: почему мы, по-своему замечательные люди, создаем немыслимую и невыносимую для себя жизнь? Как так получается? Где этот сбой? Я всю жизнь пытаюсь это исследовать? На каком этапе нашей истории мы совершаем трагические ошибки?
Афонина:
– Это вопросы без ответа пока?
Прошкин:
– Естественно. К сожалению, никого история пока не научила. Но она дает почву для размышления. И если мы понимаем, на каком этапе исторического нашего выбора мы пошли не туда, то сейчас мы в эту сторону не завернем.
Неделин:
– Хотел свернуть на более глобальную тему. Вспомнилась фраза, которую слышал неоднократно от разных людей. О том, что вместе со сменой тысячелетий мировая цивилизация пришла от процесса созидания к процессу потребления. Накопив багаж, о котором вы говорили, его надо потреблять.
Афонина:
– И, как следствие, упадок. Сергей говорит, что это естественный процесс развития.
Прошкин:
– Как только мы себе начинаем говорить, что это естественный процесс, мы поднимаем лапки кверху. Почему-то при этом естественном процессе в Чехии в каждом маленьком городке есть свой симфонический оркестр. Самодеятельный. Я был в Италии. Нас приветствовал мэр и самодеятельный оркестр. Это было что-то несусветное. Они так фальшивили! Это было так смешно. Там играли какие-то пожарные, учителя. Но это оркестр симфонический. В маленькой деревушке! Эта потребность, она неистребима. Потребность к культуре. Понимаете, сколько бы не наступала поп-культура, она все равно будет существовать. Другое дело, что мы так устроены. Мы такая уродливая нация, что нам обязательно нужен некий нравственный авторитет. И когда эти нравственные авторитеты существовали в обществе, мы понимали, что Александр Исаевич Солженицын – это абсолютно нравственный авторитет. Чего-то было стыдно. Когда Солженицын приехал в Россию, первое время он появлялся на телевидении. А потом он исчез. И не потому, что его не допускали, хотя, в какой-то степени, наверное, было и это. А потому что общество в погоне за простотой и легкостью жизни, потребления… Зачем им задумываться?