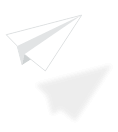Воспоминания о «Норд-Осте» и пальба в Саратове: какие еще фильмы «Кинотавра» стоит посмотреть
 Фото: Владимир Веленгурин
Фото: Владимир Веленгурин
Обозреватель Афиши КП Денис КОРСАКОВ продолжает рассказывать о конкурсной программе главного российского кинофестиваля.
«Конференция»
Режиссер: Иван И. Твердовский
В ролях: Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ксения Зуева, Олег Феоктистов.
«Конференция» Ивана И. Твердовского рассказывает о теракте в театральном центре на Дубровке. При этом название мюзикла «Норд-Ост» в фильме ни разу не упоминается, а собственно теракт не показывается: о нем только говорят.
Действие разворачивается в 2019 году, через 17 лет после трагических событий, в ходе которых Наталья (Наталья Павленкова) сама выжила, а тринадцатилетнего сына потеряла. После этого она ушла в монастырь. Но специально приехала из провинции обратно в Москву, чтобы 26 октября устроить в зале на Дубровке вечер памяти. В стандартном договоре на аренду зала варианта «вечер памяти» нет, по документам мероприятие оформляют как конференцию. На нее собираются три десятка человек. Монахиня с микрофоном обходит их, словно журналистка, заставляя вспоминать, вспоминать, вспоминать события того вечера. Весь фильм она тихонько бормочет что-то вроде «Наш народ так быстро все забывает, а мы должны помнить, мы должны проговорить все хотя бы один раз, пройти до конца, если мы этого не сделаем, все может повториться, и люди снова пострадают, давайте сделаем это хотя бы ради своих близких, а то с нами какая беда ни приключись, мы все помалкиваем, вот ОНИ и ходят за нами, может, потому и ходят, что помалкиваем, помалкиваем как мертвые, страхом скованные, люди ведь ничего не хотят помнить». Уже 17 лет она одержима.
Если для женщины есть что-то более страшное, чем потеря ребенка, это, конечно, ощущение, что ребенок погиб в какой-то степени по ее вине, что она его не спасла, что она его перед смертью бросила. Наталье бесполезно доказывать, что люди хотят забыть «Норд-Ост» и жить дальше: она ничего забыть не может. И жить не может, и умереть не может, и замолить грехи не может. «Когда ты перестанешь нас мучить?» — в исступлении орет ей взрослая дочь (Ксения Зуева). — «Ты — чудовище, монахиня херова, пошла вон отсюда!» Но куда ей идти, коли монастырь очевидным образом не помог: разве что на кладбище, на могилу сына. Стандартный психиатрический диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство» в ее случае звучит слишком легковесно, несерьезно, как издевательство.
Основная часть фильма Твердовского посвящена, впрочем, как раз «конференции»; сидящие в зале люди вспоминают подробности теракта. И довольно сложно поверить, что почти все они — актеры, а не настоящие заложники. Твердовский ознакомил их с материалом, а потом дал возможность импровизировать, пересказать события своими словами — и они достигают какой-то оглушительной степени достоверности. (В числе актеров есть Филипп Авдеев и Роман Шмаков, которые детьми участвовали в постановке «Норд-Оста» и провели в захваченном здании долгие часы — они не более и не менее убедительны, чем остальные, хотя они-то как раз не играют, а вспоминают). В общем и целом, это, конечно, лучший фильм Твердовского (ранее снявшего слегка переоцененные кинокритическим сообществом «Класс коррекции», «Зоологию» и «Подбросы») и пока что лучший фильм конкурсной программы. Некоторые на нем могут разрыдаться, некоторые даже — принять на безрыбье за шедевр. Во всяком случае, Наталья Павленкова, несколько лет назад названная на «Кинотавре» лучшей актрисой за «Зоологию», запросто может снова получить приз.

«Маша»
Режиссер: Анастасия Пальчикова
В ролях: Максим Суханов, Аня Чиповская, Полина Гухман, Александр Мизев.
Другая очевидная претендентка на звание лучшей актрисы — Анна Чиповская: хотя бы потому, что снялась сразу в четырех конкурсных фильмах. В «Хандре» она появляется на минуту, в «Маше» — минут на восемь, во «Вмешательстве» и «Кто-нибудь видел мою девчонку?» у нее главные роли. Про «Хандру» и «Вмешательство» мы уже рассказывали, теперь об остальных двух картинах.
«Маша» — фильм про лихие 90-е: провинция, бандиты, боксерская секция (которая на самом деле кузница бойцов для ОПГ), тренер, который по совместительству является «крестным отцом» (его для простоты в сценарии так и называют — Крестный), бесконечные попытки распилить прибыль от местного маслозавода. Изюминка в том, что показывается все это глазами тринадцатилетней девочки Маши, племянницы Крестного, местной принцессы. Гопники, готовые превратить в фарш кого угодно — ее лучшие друзья, обожают ее как сестренку, носятся с ней, дарят магнитофоны (позаимствованные, конечно, из ограбленных квартир). А она мечтает стать певицей и, порхая между стрелками и разборками, распевает старые песни на английском языке: Heaven, I’m in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak…
«Маша» так красиво соединяет несоединимые вещи (девичьи переживания по поводу первых месячных и бандитскую пулю в лоб, Ирвинга Берлина и «Дым сигарет с ментолом»), в ней так хорошо смотрятся Максим Суханов (Крестный), Полина Гухман (Маша-подросток), Чиповская (Маша во взрослом виде), что ее не очень-то и хочется ругать. И все-таки выдающимся фильмом ее никто не назовет: она как-то странно расфокусирована, в ней много отдельных отличных сцен, но не чувствуется жесткого драматургического каркаса — даром что режиссер-дебютант Анастасия Пальчикова по основной профессии сценарист.
Что же касается собственно 90-х, исторической правды, осмысления эпохи и всего такого — кажется, Пальчикова не идеальная кандидатура, чтобы за это браться. В интервью кинотавровской газете она описывает 90-е буквально так: «Почти каждый день, когда я шла на остановку, чтобы ехать в школу, на улице стреляли. И я мгновенно падала под припаркованную машину, очень буднично падала, привычно — пережидала. Так умели делать все мои ровесники. Во всяком случае те, кто вырос в провинции. Потом я спокойно отряхивалась и шла на урок обсуждать Евгения Онегина».
Пальчикова выросла в Саратове. Моя подруга и коллега, смотревшая «Машу» вместе со мной, выросла там же и тогда же — у них с Анастасией разница в пару лет; она пришла от этого пассажа сперва в недоумение, а затем в негодование, объявив Пальчикову позеркой, а эту сьерра-леонскую ежедневную пальбу — вымыслом для привлечения внимания. Разнервничалась, раскипятилась, просто ужас!

«Кто-нибудь видел мою девчонку?»
Режиссер: Ангелина Никонова
В ролях: Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юра Борисов.
Но, конечно, эта частная обида за Саратов не идет в сравнение с волной негодования, обрушившейся на фильм Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Для кинокритиков герой этого фильма, мягко говоря, не чужой. Сергей Добротворский считался и считается одним из самых умных, тонких и проницательных российских киноведов; он умер в 1997 году, а 17 лет спустя вышла книга его бывшей жены Карины, где она рассказывала об их встрече, браке и расставании, а еще — о его смерти и том, как она все эти годы не могла прийти в себя от скорби.
«Откусила человеку голову, а потом еще книжку написала» — это самое мягкое высказывание, которое я услышал в 2014 году о Карине Добротворской (как раз на «Кинотавре», и, разумеется, от кинокритика). После того, как умер Сергей, она для многих их общих знакомых стала объектом лютой ненависти. Карина, понимаете ли, ушла от мужа к московскому журналисту, зарабатывавшему, по меркам 90-х, немыслимо много. Добротворский очень горевал, начал активно употреблять наркотики, которых не чурался и раньше, и однажды употребил слишком много. За несколько секунд до того, как вколоть дополнительную, роковую дозу героина, он якобы сказал «Моя девчонка ко мне уже не вернется». Конечно, возникло мнение, что это самоубийство. Попытку Карины Добротворской все подробно объяснить и оправдаться не зачли.
Ангелина Никонова от греха подальше поменяла в фильме все имена и пароли: Добротворский стал Добровольским, Карина — Кирой, даже газета «Коммерсант», где часто публиковался С.Д. — «Финансистом». Для верности она, похоже, не стала говорить Александру Горчилину, играющему главную роль, кем вообще был его персонаж. «Добровольский» значительно моложе, глупее и проще оригинала: он богемный романтический мальчик, любящий постеры популярных фильмов и наркотики (см. также фильм Валерии Гай Германики «Да и да»); иногда еще произносит что-то мутное, но вроде бы умное про Годара или Вайду. (Показательно, что Никонова заставляет персонажа произнести пассаж из текста Добротворского о Збигневе Цибульском, обрывая его за секунду до той фразы, ради которой текст писался).
И вот в эту богемную среду, прямо на день рождения к Сереже, входит красивая девочка. Он ее сразу пытается поцеловать, а она ему не сразу, но отдается. Ради Киры Сережа бросает жену, которая тут же проклинает влюбленных («…И дети у вас будут рождаться мертвые») — и точно, следуют три выкидыша. Но Сережа с Кирой живут веселой богемной жизнью, бегают по Питеру и испытывают приступы абсолютного счастья в квартирке с ободранными обоями. А потом на горизонте появляется «главный редактор газеты «Финансист». Разлюбив Сережу (который начинает нехорошо бухать и ее бить), вертихвостка Кира уходит от него и тут же беременеет, на этот раз — удачно. А «главный редактор» бережет ее покой, и о смерти Добровольского сообщает только через три месяца после похорон. Ну, и дальше Кира становится крупным медиа-менеджером, суперзвездой глянцевой журналистики, железной женщиной, меняет внешность (вместо Чиповской ее играет Виктория Исакова), ездит на роскошной машине по роскошной Франции с мальчиком-игрушкой, предназначенным в основном для секса, а Сережа ее все не отпускает и не отпускает.
Конечно, легко понять моих коллег, негромко, но яростно матерившихся во время показа. Но большинство зрителей сравнивать этот сюжет с реальными событиями не будут. Ни книгу Карины, ни тем более статьи Сергея они не читали и не планируют. А в качестве обычной, «зрительской» мелодрамы «Девчонка», похоже, работает довольно эффективно: дамы выходили из зала, вытирая слезы.
Спасибо, что вы с нами!