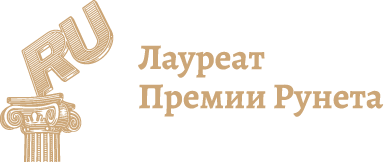Чтобы Минск стал Городом-героем, Петр Машеров согласился на заговор против Политбюро
Сегодня кажется, что звание «Город-герой» было присвоено Минску по щелчку пальцев. На самом деле руководство Политбюро отвергло предложение Петра Машерова наделить белорусскую столицу почетным титулом. Белорусам пришлось отвоевывать место под солнцем, идти на хитрость и даже вступить в сговор…
Подробности «заговора», произошедшего в середине 70-х, описаны в не публиковавшейся ранее статье известного белорусского драматурга и собкора газеты «Известия» в Беларуси Николая Матуковского, которую «Комсомолка» размещает с разрешения его дочери Ирины Матуковской.
Нас, заговорщиков, было пятеро.
Петр Миронович Машеров… Погиб в автомобильной катастрофе.
Виктор Яковлевич Крюков, его помощник… Умер.
Лев Николаевич Толкунов, главный редактор «Известий»… Умер.
Валентин Петрович Гольцев, заведующий военным отделом редакции «Известий»… Умер после автомобильной аварии.
И я, корреспондент газеты «Известия» по Белоруссии (статья написана в 90-е годы, Николай Матуковский умер в 2001 году в возрасте 72 лет. – Ред.) Если я не расскажу этой истории, ее уже никто не расскажет…

Николай Матуковский более 30 лет был собкором "Известий" в Беларуси.
…В приемной Виктор Яковлевич попросил:
- Он готовится к завтрашнему Политбюро, вечером улетает. Пожалей ты его! Если он разговорится, встань и уходи. Ты же знаешь, он увлекается…
Легко сказать - встань и уходи. От первого человека в республике! Но просьба Виктора Крюкова перечеркнула мою преамбулу, которую я заготовил заранее. Поэтому я начал без предисловий, почти сразу от порога:
- Петр Миронович (Машеров. - Ред.)! Я шел к вам по человеческим костям, на которых стоит Минск. Вы очень много сделали для Белоруссии, но Белоруссия никогда не простит вам одного: вы не добились для Минска звания города-героя.
До сих пор не могу понять, что подтолкнуло меня на такую дерзость. Наверное, все-таки вывела из равновесия та беспардонная историческая несправедливость, которую проявил к Минску московский Олимп. Сколько же можно было ждать «милостыни» от дряхлеющего генсека?
Петр Миронович вздрогнул, как от удара. Он выскочил из-за стола, нервно заходил по кабинету, пытаясь закурить на ходу. Он курил не сигареты, а старомодные папиросы с длиннющим мундштуком. Руки у него дрожали, папиросы ломались, спички не зажигались. Ему удалось закурить только с третьего или четвертого раза. Лицо его так побледнело, что я боялся на него смотреть. «Ну вот, влип ты, Микола, - подумалось мне. - Сейчас ты получишь от ворот поворот»...
«Не хотят хохлы, чтобы наш Минск сравнялся с их Киевом!»
- Ты думаешь, я не пытался? Почти закричал он. - Зарубили! Не хотят хохлы, чтобы наш Минск сравнялся с их Киевом! А я всего лишь кандидат в члены Политбюро! Я не имею права еще раз возвращаться к тому, что Политбюро уже похоронило! Меня просто выставят за дверь! Пойми, я не боюсь, но кому от этого будет польза?
Сам того не зная, я попал в самое больное его место. Вот тогда я и произнес те слова, ради которых шел к нему:
- Разрешите мне, Петр Миронович, поставить этот вопрос?
Наверное, он принял меня за какого-то ненормального психа, авантюриста. Это читалось на его лице. На его месте я бы точно так же отреагировал.
- А как ты это сделаешь? - спросил он после большой паузы, во время которой пристально рассматривал меня.
- Очень просто. Я так напишу, что вопрос встанет сам собой. Его наши читатели поставят.
И опять долгая пауза. Первыми заговорили его глаза. Он еще ничего не успел сказать, а я уже видел, что мое предложение ему понравилось. Он глубоко затянулся и погасил папиросу.
- А ты знаешь… Это идея! Именно ваша газета может заткнуть рот Подгорному (Председатель президиума Верховного совета СССР. - Ред.), который больше всех противился на Политбюро. Не будет же он выступать против своей газеты! На смех поднимут!.. А ты не боишься? - вдруг спросил он. - Ведь у нас с тобой получается нечто вроде заговора против Политбюро! Конечно, в тюрьму за это нас не посадят, но неприятности могут быть и у тебя, и у меня.
Я об этом никогда не думал, не знал, как говорят, истории вопроса. Но даже если бы и знал… Разве могли сравниться какие-то «неприятности» с тем, что мы могли выиграть в случае успеха нашей акции?
- Если меня выгонят из «Известий», вы мне дадите работу?
- Не волнуйся, без работы не останешься, - успокоил он меня и вдруг остановился. - А твой главный редактор пойдет на риск? По всей видимости он знает, что Политбюро угробило мою просьбу. В такой ситуации плыть против волн и ветра не каждый решится.
Я хорошо знал Льва Николаевича Толкунова, его честность и принципиальность, потому ответил не колеблясь:
- Он согласится, я в этом уверен.
- Нет, так не годится, - возразил Петр Миронович. - Мы же ведь его подставляем! Он должен знать, на что идет. Спроси у него. Только не по телефону!
- Разрешите позвонить от вас по ВЧ.
- А по моему ВЧ - тем более! Неужели ты не понимаешь? И стены уши имеют…
«Вот именно потому он нас и выдаст, что белорус…»
Он тут же позвал Виктора Яковлевича и попросил позвонить от его имени в Институт истории партии, чтобы мне показали все документы о минском подполье. Забегая вперед, скажу, что его слово сработало безотказно. В истпарте мне показали все, даже то, что раньше другим не показывали.
- И вот еще что, - озабоченно сказал он. - Ни один человек не должен знать о нашем заговоре. Иначе информация просочится наверх, и против нас тут же будут приняты превентивные меры. Ничего страшного не произойдет. Просто Подгорный позвонит твоему главному редактору и попросит не печатать такой-то материал. «Из высших соображений!» И твой главный не посмеет его нарушить. И я не посмел бы после предупреждения… Весь смысл в том, чтобы неожиданно поставить их перед фактом. Поэтому никому ни слова, особенно «правдистам», с которыми, я знаю, ты дружишь. От них узнает Зимянин (главный редактор «Правды». - Н.М.) и сразу же нас выдаст…
- Этого не может быть! - возразил я. - Он же наш, белорус…
- Вот именно потому и выдаст, что белорус… Михаил Васильевич очень обидчивый человек. Никак он не может простить Белоруссии, что его не избрали первым секретарем ЦК КПБ на том пленуме, где хотели расправиться с Патоличевым (министр внешней торговли СССР. – Ред.) Ведь он тогда приехал на пленум, уже будучи назначенным Москвой. Его назначили первым! Оставалась малость - формально проголосовать. И вдруг… Такое, брат, не скоро забывается…
Я за один день слетал в Москву и вернулся обратно. Как я и предполагал, Лев Николаевич, не раздумывая, дал свое добро на нашу операцию. Необходимость держать дело в тайне поставила меня в крайне неловкое положение перед корреспондентом «Правды» Иваном Новиковым, с которым меня связывала многолетняя дружба и книги которого я потом цитировал в своем материале. Я даже своему напарнику, Шиманскому, не имел права сказать, над чем работаю и какое дело затеял.
Как мне хотелось поделиться замыслом со своими друзьями - Василём Быковым, Геннадием Буравкиным, Нилом Гилевичем, которые, несомненно, «набросали бы» много интересных и так необходимых мне идей. Но, увы, в интересах дела я был «приговорен к одиночеству» на неопределенное время.
Я взял на две недели отпуск за свой счет и уехал в Аксаковщину. И вот тут мои нервы вдруг окончательно сдали. До меня дошло, какую ответственность я на себя взял.
«Разрешите мне поставить этот вопрос…»
На меня накатил какой-то панический ужас - а вдруг не получится? Какими глазами я посмотрю на Петра Мироновича? Что он обо мне скажет или подумает? Болтун? Хвалилась синица море поджечь?
Были моменты, когда мне хотелось бросить все и сознаться в собственном творческом бессилии. Ведь есть же предел, выше и дальше которого не шагнешь! Всякий автор, будь он семи пядей во лбу, имеет право на неудачу, на провал!.. Семи пядей у меня не было, но я к тому времени был уже опытным журналистом и знал, какая это страшная штука - «биологическое сопротивление материала», когда в отчаянии считаешь себя последней бездарью. И я уже знал, что в такой момент очень важно сосредоточиться, взять себя в руки и писать так, как будто пишешь последний материал в своей жизни, по которому о тебе будут судить потомки.
Первый вариант материала я безжалостно уничтожил. В нем было слишком много «личного», слишком много «нервов» и «страданий».
Промучился еще два дня, пока не нашел ключ-стиль, намеренно сухой и жесткий. Чтобы каждая строчка не «страдала», а «стреляла», работала бы на те страшные документы, которые я приводил, и наоборот, чтобы документы по стилю не отличались от моего письма. Никаких эмоций, никакого «сострадания», от первого до последнего слова - документ.
Только в самом финале я не смог справиться с захлестнувшими меня эмоциями… «Когда в Минск приезжают гости и просят показать достопримечательности, им показывают могилы. А в каждой из них 20 тысяч… 30 тысяч… 100 тысяч. В них человеческие жизни, целые миры! Непостроенные дома, ненаписанные книги, неспетые песни, нерожденные дети… И если вдруг история повернется так, что еще раз… Пусть моя судьба и судьба моих детей ничем не отличается от мужественной судьбы тех, кто предпочел смерть рабству, честь и свободу Родины - неволе…»
Я вернулся из Аксаковщины и, как было между нами договорено, понес материал Петру Мироновичу. Его не было, и я отдал папку Крюкову. Поздно вечером Петр Миронович позвал меня к себе… Мне неудобно писать о том, что он говорил в том вечер. Но иногда друзьям я показываю папку, в которой приносил ему свой материал. На ней мелким, бисерным почерком, который был известен всей республике, написано: «На мой взгляд, получилась убедительная и прекрасная, сильная повесть. Благодарю и поздравляю автора. В двух-трех местах надо было бы уточнить обобщающие оценки. П.Машеров». Когда Петру Мироновичу что-нибудь нравилось, он не скупился на эпитеты, может быть, даже чрезмерные…
Вместе с ним мы уточнили «обобщающие оценки». Он своей рукой вписал одну фразу после слов «нерожденные дети»: «Там лежат Люди, выполнившие свой долг перед Родиной, перед Историей». И там, где я говорил о могилах, он дописал могилу в сто тысяч.
- Ты забыл Тростенец, - упрекнул он меня. - Там даже не сто, а больше двухсот тысяч. Но писать двести не надо, наши современники не поверят. Давай напишем сто…
«Машеров предложил: проси чего хочешь!»
Мы сидели с ним долго после полуночи. Когда прощались у порога, он вдруг сказал:
- Проси у меня чего хочешь!
Если бы даже мне что-то было как воздух нужно, я бы не стал просить в такой момент. И все-таки я сказал:
- Есть у меня одна просьба...
Сказал и заметил, как проскочила в его глазах легкая хмуринка. «А казался бессребреником!»
- Говори, какая? - и взял в руки карандаш, чтобы сделать пометку в блокноте.
- Скажите мне первому, если мы победим.
Он с облегчением засмеялся.
- Я тебе это обещаю.
Назавтра я уже вез материал в Москву. Наступал самый ответственный момент в нашей операции. Тайна переставала быть тайной - мы выходили на наш наборный цех, на редакционных цензоров. Надо было действовать очень точно и оперативно, чтобы упредить возможную утечку информации из редакции.
Самое главное - надо было разыграть спектакль, будто все делается по самому высокому дозволению.
Этот спектакль надо было сыграть в Генеральном штабе, в его Разведывательном управлении и в Комитете государственной безопасности. Именно эти три инстанции должны были дать разрешающие визы - так официально заявили редакционные цензоры. Все три визы надо было получить за один день! Мы не имели права тянуть дольше, какая-нибудь из этих трех инстанций могла нас «рассекретить» звонком наверх. Чтобы на всякий случай застраховаться. Страховались все, только мы действовали на свой страх и риск.
Валентин Петрович Гольцев дал мене вместе с набранными гранками свое отеческое благословение, Лев Николаевич - свою машину с правительственными номерами.
- Пусть видят, на каком транспорте ты приехал!
Я начал с самого главного «рецензента» - с разведывательного управления Генерального штаба. Вошел в кабинет, в который мне велено было явиться, и почти небрежным, почти безразличным тоном произнес:
- Вас просили это посмотреть, чтобы не прокралась какая-нибудь неточность…
Подействовало! И «вас просили» и «мелкая неточность». Если речь идет всего лишь о мелкой неточности, значит «по крупному», в принципе вопрос где-то решен! На этот эффект я и рассчитывал.
Я боялся только одного вопроса: «С кем это согласовано?»
Не хочу, чтобы у читателя сложилось мнение, будто я чем-то сильно рисковал. Мне лично ничто не угрожало. Просто могла провалиться вся наша так хорошо задуманная операция. Мне страшно было только за это.
«В КГБ я нагло завил: «Вот это просили посмотреть разведчики…»
Открыл на улице папку с гранками… «Главное разведывательное управление Генерального штаба против опубликования документальной повести Н.Матуковского «1.100 дней» не возражает. Вопрос о целесообразности опубликования повести рекомендуем согласовать с пресс-бюро КГБ. Генерал-майор И.Чистяков».
В Комитет государственной безопасности я ехал уже смелее: на руках было положительное решение разведывательного управления. Оно дорогого стоило. В Комитете я уже совсем нагло заявил: «Вот это просили посмотреть разведчики. У них никаких замечаний нет, но они просили показать вам…»
Штамп разведывательного управления оказал магическое воздействие на работников Комитета госбезопасности. Из КГБ я вышел с резолюцией начальника пресс-бюро, полковника Кравченко: «Сведений, составляющих государственную тайну, материал не содержит».
Имея на руках два таких документа, мне уже не составляло большого труда убедить военного цензора Генерального штаба Федорова в «непогрешимости» материала.
В последний раз собрались втроем в кабинете главного редактора - Лев Толкунов, Валентин Гольцев и я. Еще раз, почти в лупу прочитали весь материал, понимая, что любая пропущенная нами «блоха», тут же превратится в слона, который нас растопчет.
Лев Николаевич красным карандашом вычеркнул несколько строк из последнего абзаца. Я так писал: «Это они (речь идет о погибших минских подпольщиках) своей жизнью и смертью поставили гордый непокорившийся Минск в ряд таких городов-героев, как Волгоград, Севастополь, Одесса, Новороссийск, Керчь…»
- Не надо этого, - сказал он. - Слишком прозрачно, слишком в лоб. Пусть читатели сами поставят Минск в ряд этих городов. Так будет эффективнее и дороже. И «повесть» надо заменить на «рассказ». Рассказу будет больше доверия. «Повесть» ассоциируется с литературой, с вымыслом.
«Белорусы выжидали, думая, что помогут соседи?»
Лев Николаевич рассчитал точно, правильно. В нашу редакцию хлынул поток писем - пять мешков! И в конце каждого письма был вопрос: почему Минск - не город-герой?
В нашу редакцию хлынул поток писем - пять мешков! И в конце каждого письма был вопрос: почему Минск - не город-герой?
Удивительное дело - из Белоруссии писем почти не было. До сих пор понять не могу - выжидали белорусы, надеялись на справедливость? Или верили, что их интересы защитят братья из других республик? Гольцев позвонил в ЦК КПСС и спросил:
- Что нам делать с письмами? Переслать вам?
- Зачем? - ответили оттуда с раздражением. - У нас столько же…
Оказывается, что почти каждый автор писал два письма сразу - нам, в редакцию и в ЦК КПСС. Для надежности…
Началось тревожное ожидание - удался «заговор» или нет?.. Документальный рассказ о минском подполье «1.100 дней» был напечатан в трех номерах «Известий» - за 27, 28 и 30 апреля 1974 года. Лев Николаевич вскоре был освобожден с поста главного редактора «Известий» и переведен в АПН. Думаю, не случайно…
Где-то в двадцатых числах июня меня разыскал по телефону Виктор Крюков.
- Звонил из Москвы Петр Миронович и просил передать тебе только одно слово: «Состоялось». Не знаю, что он имел в виду, но чувствовалось, что настроение у него очень хорошее. Конечно же, Виктор Яковлевич хорошо понимал, что «состоялось», но продолжал играть в тайну.
Надо ли говорить, что делалось у меня на душе? Дома никого не было, и я побежал к своим друзьям Буравкиным.
- У вас есть шампанское? - спросил я, ступив через порог. - Наливайте!
Налили три полных фужера. Я выпил и… с размаху ударил фужер о пол. Хрустальные осколки даже в окно полетели. Геннадий и Юля оторопели и… ударили свои фужеры о паркет.
- Ну, а теперь рассказывай! - потребовали они. - Что случилось?
Но радовались мы рано. «Лично дорогой Леонид Ильич», вынужденный уступить общественному мнению, не мог простить Минску такой партизанщины. Четыре с половиной года ехал он вручать Минску золотую звезду! А как вручал?!

Брежнев четыре года "ехал" в Минск вручать Золотую звезду.
И надо же так случиться, что в зрительном зале Оперного театра, где проходили торжества, он оказался… как раз за моей спиной. Хоть ты провались! Я хотел уйти, но понимал, что меня сразу же схватит «девятка»: подложил под стул какую-нибудь пакость, а сам сматывается!
Я вынужден был сидеть до конца и слушать злое ворчание. Генсеку не нравился концерт, и его начали сворачивать, выбрасывая из программы сразу по два номера.
Я слышал, как он довольно громко сказал своему генералу-адъютанту: «Хочу домой!» На банкет он тоже не остался. И мы «омывали» золотую звезду Минска «под руководством» Петра Мироновича и Тихона Яковлевича, которые возвратясь с вокзала после проводов высокого гостя, вздохнули с облегчением.
За столом остались самые высокие гости - оставшиеся в живых подпольщики и партизаны. Они пили, обнимались и говорили: «А все-таки есть Бог на свете!»
И последнее, пожалуй, самое неприятное для меня. Даже близкие люди и сегодня не верят, что я все это делал бескорыстно, повинуясь своему профессиональному долгу журналиста. Нет-нет да кто-то и спросит с ехидцей: «Ну, признайся, что тебе подбросил за это Петр Миронович? Квартиру, машину или орденок?»
Квартиру я имел уже до этого, машину не просил, потому что на машину у меня никогда не было денег. Правда, один подарочек был, хотя и со знаком «минус».
Редакция представила меня к ордену Октябрьской революции и, считая, что дело в шляпе, поздравила меня со столь высокой наградой. И сказала, что наградной лист послали на визу в наш ЦК, Николаю Никитовичу Слюнькову.
«В твоем же ЦК молиться на тебя должны. Так что поздравляем от всей души. С тебя причитается…»
Поспешили малость ребята с поздравлениями. Николай Никитович решил, что такой критикан, как я, выше ордена Дружбы народов «не тянет». И санкционировал именно эту награду. Так что, как видите, подарок у меня был…
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Генадзь БУРАВКИН:
«Не надо оглядываться на всемогущие «верха» в отстаивании правды»
- Я хорошо помню то время и те события, о которых пишет Николай Матуковский. Помню, как в среде белорусской интеллигенции и в так называемых рабочих коллективах то и дело возникал вопрос: «А почему Минск - не город-герой?»
Это недоумение получило особенно широкое распространение после того, когда Золотую звезду героя стали прикреплять к знаменам городов, связанных с военной биографией дряхлеющих советских руководителей. Действительно, разве столица Беларуси не заслуживала такого звания, разве патриотическое минское подполье своими подвигами и трагедиями не вписало себя в святую летопись Великой Отечественной войны?
Нужны были люди, которые бы эти настроения сформулировали, обосновали и вынесли на всенародное обсуждение. Ими в данном случае стали Петр Миронович Машеров, Лев Николаевич Толкунов, Николай Егорович Матуковский.
Восхищение массовым подвигом минчан, преклонение перед памятью об их жертвах и жизнестойкости продиктовали единодушный вердикт: «Минск должен быть городом-героем!» И, несмотря на мелочные личные пристрастия и предубеждения, высшие чины советского государства приняли официальное решение о присвоении Минску звания Города-героя.

Звание "Город-герой" Минску присвоено лишь в 1974 году.
В Беларуси по этому поводу было искреннее всеобщее ликование. И потому, что восторжествовала историческая справедливость, и потому, что наша столица стала в ряд самых уважаемых, покрытых воинскою славой городов не только СССР. Это прибавляло национальной гордости белорусам, укрепляло в них веру в свои силы и перспективы…
С позиций сегодняшнего дня особо хочу отметить роль Николая Матуковского - талантливого драматурга, популярного корреспондента прославленных «Известий». Не только его личная инициатива, но и весомость, авторитет печатного слова заставили власть предержащих прислушаться к его публикациям и многочисленным откликам на них со всего Советского Союза.
Казалось бы, ну зачем успешному журналисту лезть в дремучие дебри чиновничьих интриг, вмешиваться в сложные политические игры, но, громко говоря, недремлющая гражданская совесть и честно исполняемый профессиональный долг втянули его в «заговор» против Политбюро - и он победил. Чем не пример для сегодняшних амбициозных молодых коллег?..
И еще один урок истории с награждением Минска золотой Звездою Героя - не надо бояться брать на себя ответственность в святом деле, не надо оглядываться на всемогущие «верха» в отстаивании правды. Надо слушать людей, доверять им, беречь их неумирающую память. И при этом не забывать тех, кто в свое время был принципиальнее, прозорливее и смелее многих, излишне осторожных и послушных…
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Статью про Курапаты в 88-м году пропустил цензор В 1988 году никто не писал в заголовках «Шок!» или «Сенсация!», но эти две печатные страницы формата А3 были именно такими: сенсационно-шокирующими. Новость о том, что в урочище под Минском мирных белорусов тысячами расстреливали не солдаты во вражеской форме, а сотрудники НКВД, перевернула сознание тогда еще советских людей. Читать далее <<
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Статью про Курапаты в 88-м году пропустил цензор
В 1988 году никто не писал в заголовках «Шок!» или «Сенсация!», но эти две печатные страницы формата А3 были именно такими: сенсационно-шокирующими. Новость о том, что в урочище под Минском мирных белорусов тысячами расстреливали не солдаты во вражеской форме, а сотрудники НКВД, перевернула сознание тогда еще советских людей. Читать далее <<