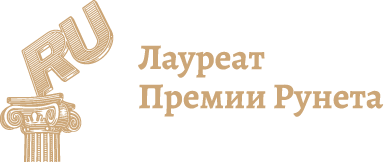Сергея Довлатова очистили от мифов
Сергей Довлатов еще при жизни превратился в культовую фигуру литературного Олимпа страны - его книги, которые никогда не одобряла официальная цензура, читали запоем и растаскивали на цитаты. После того, как ему в 1979 пришлось эмигрировать в Соединенные Штаты, популярность автора "Зоны", "Заповедника" и "Соло на "Ундервуде" лишь возросла.
Но каким он был на самом деле? Насклько образ из его произведений соответствует реальности? На эти вопросы попытался ответить петербургский писатель Валерий Попов, чья книга "Сергей Довлатов" выйдет в сентябре 2010 года в серии "Жизнь замечательных людей". У читателей "Комсомолки" есть уникальная возможность познакомиться с двумя главами биографического романа за четыре месяца до выхода книги в свет.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. СЕМЬЯ И ШКОЛА Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе.
- Вот невезуха! – воскликнем мы – Так далеко от культурных центров, да еще в начале войны!
Впрочем, сам бутуз вряд ли считал свой день рождения неудачным: родиться всегда хорошо. Наверно, и у родителей радость рождения сына не была особенно омрачена: все пока еще считали начавшуюся войну легкой и были уверены в скорой победе. Из Уфы в Ленинград малыша привезли в 1944 году, когда кончилась блокада, и у его отца-режиссера снова появилась возможность работы в ленинградских театрах. Так что родную Уфу Сережа вряд ли мог помнить. Но не такой Довлатов был человек, чтобы оставить хоть какой-то кусок своей жизни – даже самой ранней, - без легенды. И он выдает версию, будто его заметил еще в детской коляске и фактически благословил на писательский подвиг не кто иной, как великий Андрей Платонов, который как раз в эти годы был в Уфе – и выбрал, естественно, для благословения именно Сережу. А кого же еще? По всем данным, никаких других писателей в колясках в те годы в Уфе не находилось. И все это украшено неповторимой довлатовской дурашливой иронией… Да, рано начал наш герой!
Итак, в 1944 году он уже в Ленинграде.
Примерно тогда и я сюда вернулся и помню город той поры. Поначалу он имел даже какой-то сельский вид. Росли лопухи, бегали куры. Ходили простоволосые босые женщины. Но старый город стоял – и действовал на нас. После моей низкоэтажной Казани (и довлатовской Уфы) огромные каменные дома оставляли ощущение загадочных замков. Их архитектура - в основном эклектика, как мы понимаем сейчас, - с башнями, бойницами, восточными окнами будила фантазию, веяла ощущением тайны, в которой ты оказался. Мы чувствовали себя не на пустом месте – а в продолжении чего-то таинственного, начавшегося давно. Укутанные мамой, мы шли в гости, и вдруг завороженно застывали перед каким-нибудь тускло светящимся витражом на лестнице: волшебные цветы, листья, таинственные эмблемы, непонятно откуда струящийся розовый свет. Мы не могли тогда это пересказать – но чувствовали, запоминали. Разрушенность, «забытость» Ленинграда после войны (старые жильцы сгинули, кто в блокаде, кто в ссылке, и никто уже не помнил, что значит этот витраж) – рождали в нас ощущение прекрасного, но забытого мира, который должны вспомнить и воссоздать именно мы.
Помню, как еще в дошкольное лето мы ползали у руин Спаса-на-крови и из кусков майолики, валявшихся в пыли, с упоением складывали свои узоры. Оказаться в раннем детстве в Ленинграде, словно в затерянном таинственном городе – большая удача для будущего писателя. Не случайно именно из этих детей, появившихся здесь тогда, выросло целое поколение замечательных фантазеров. Началась тогда и работа по превращению пухлого и робкого мальчика Сережи Мечика в Сергея Довлатова, о котором все стали говорить, а потом и с восторгом читать его книги. Хотя никто, понятно, сначала не предполагал этого – мало ли было тогда в школах таких Сереж? Предполагал ли он?
Сам Довлатов преподнес свое детство так: «Толстый застенчивый мальчик. Бедность. Мать самокритично бросила театр и работает корректором. Школа».
Его лучший школьный друг Дмитрий Дмитриев вспоминал: «Помню, первого сентября делали перекличку. Каждый ученик должен был встать, назвать свою фамилию и имя, а так же национальность. И вдруг встает пухленький темненький мальчик и тихо говорит: “Сережа Мечик, еврей”. Конечно, по классу прошел смешок. Во-первых, слово “еврей” традиционно вызывало такую реакцию в школе. Во-вторых, фамилия у Сережи была смешная и очень забавно сочеталась с его кругленькой фигуркой: “Мечик” звучит как “мячик”».
«Толстый застенчивый мальчик»
И тут Довлатов сразу за душу берет! И я - вдруг с волнением вспоминаю, – был такой же! Но, наверное, это неплохо. Гораздо лучше было быть таким, чем носиться в нищей, хулиганской толпе будущих урок, заполнявших тогда все дворы. «Толстый»– это значит, все-таки, немножко подкормленный мамой в отличие от прорвы послевоенных сирот, детдомовцев и детей забубенных родителей, махнувших на всё рукой. «Застенчивый», как я вспоминаю, значило в те времена – не впаянный в дворовую, уличную, полублатную шпану, которая диктовала тогда свои порядки и в школе и потом дружно ушла в тюрьму, уводя с собой тех, кто по слабоволию тянулся за ней еще в дворовых играх.
Рассказ о первом появлении Довлатова в школе друг заканчивает так: «…Из-за шума в классе учительница никак не могла расслышать Сережу, так что ему пришлось снова и снова повторять свою злочастную фамилию (которую он потом вовремя и удачно сменил). Ребята в классе, разумеется, развеселились еще пуще – а бедный Сережа совсем смутился».
Такое начало школьной жизни было и у меня – с отчаянием и я вспоминаю те жестокие годы, когда в школе командовали хлопцы с фиксами, и жизнь «застенчивых мальчиков» состояла из ужаса и унижений. Начало очень горестное для бедного школьника – и тоже горестное, но очень плодотворное для будущего писателя. Сразу оказаться в центре обидной и смешной истории для будущего писателя – увы, самое то. . . О будущем писательстве он даже еще и не догадывается, а лишь мучается: почему все шишки на него? Потому! Будущие писатели уже с юных лет ловят на голову эти «шишки», будущие сюжеты. Судьба словно нарочно готовит им испытания. Толстой рано осиротел. На Гоголя его одноклассники смотрели с изумлением, и прозвище его было – Карла. Такая вот несчастливо-счастливая судьба!
Скромно вспомню и свое первое появление в первом классе. Учительница всем раздала серенькие, как предстоящая жизнь, листочки в клетку, и приказала:
– Нарисуйте каждый, что хотите.
– А что, что? – послышались голоса.
– Что хотите!
Такой щедрый был подарок по случаю первого дня. Несомненно, то был, как бы сейчас сказали, тест: кто как себя покажет, так потом с ним и обращаться… Я показал себя хуже… нет – слабее всех! Когда дети подавали листы с уверенно изображенными зайцами и мишками (наверняка уже не раз отработанными с воспитателем в детском саду) я, почему-то в детский сад не ходивший, робко, почти не нажимая карандашом, изобразил едва различимую уточку – поместившуюся с клювом, ногами и хвостом… в одну клеточку тетради. Почти не различить! Учительница удивленно подняла бровь, потом презрительно усмехнулась. Мой статус определился сразу и надолго… Зато я это помню, и могу об этом написать – в отличие от других, кто спокойно изобразил что-то общепринятое, всем понятное, и давно уже забыл. А я помню! Вот так.
Вспоминает соседка Довлатова: «Сережа не был уличным мальчиком. Он никогда не гулял один, всегда с мамой или с бабушкой. Он вырос в жестких условиях женского воспитания… Не то чтобы он был скованным. Он был просто хорошо воспитанный мальчик. Я не помню, чтобы Нора Сергеевна проявляла какую – то особую строгость, но в детстве Сережа слушался ее беспрекословно».
Домашнее воспитание, конечно же, самое лучшее – тут видят тебя, и поддерживают лучшее, что в тебе есть. Такое детство – да и вся жизнь в этом ключе, – могла бы быть идеальной для будущего скрипача или математика, но не для писателя: «Черные дворы, Зарождающаяся тяга к плебсу».
Без этого, видимо, будущему писателю никак… Но тяга к плебсу не означает слияние с ним. Даже саму фразу о тяге к плебсу мог придумать и сказать только несомненный аристократ, аристократ по происхождению и домашнему воспитанию. Настоящий плебс и слова такого не знает, для него окружение такого рода – «свои парни в доску», самое то! А Довлатов к плебсу не принадлежал никогда. Чтобы выговорить слово «плебс», надо стоять уже намного его выше… Но «рейды»в него делать приходится: будущему писателю нужна «вся жизнь», а не только домашняя. Но в начале тебя, вышедшего из домашней оранжереи, принимают в штыки или, хуже того, не замечают, не видят в упор – красуются совсем другие.
…«Почему я всегда один? Что же – так пройдет время, и никто не увидит меня, и уж тем более не поинтересуется – какой я. Это, наверное, и есть первый эмоциональный толчок к писательству: быть хоть как-то замеченным, оставить свой след. Вспоминаю, как в поисках зрителей (то бишь читателей) я однажды вышел в школьный двор и с тоской увидел спаянную своим уставом хулиганскую школьную «шоблу»: они заворачивали за угол школы расслабиться после уроков и покурить. «Иди» – «Но зачем?» «Надо!» Через силу подошел, встреченный насмешками, развязно попросил закурить – и в результате от искры сгорел рукав моего нового ватного, перешитого бабушкой из отцовского, синего пальто! И тот горящий рукав – один из первых пережитых мной сюжетов. Не сгоришь – не напишешь!
«Я умнее и больше читал. Я знаю, как угодить взрослым…»
Это очень важный момент – на общем фоне вдруг увидеть себя, оценить, осознать: а ведь меня преследуют не потому, что я хуже, а наоборот – потому что лучше. Теперь надо, что бы и учителя заметили это и оценили – но сделать это надо плавно, не настораживая злобный класс. Помню тот осторожный и тщательный подъем по ступеням самознания, самоутверждения: хулиганы, привычно ринувшись к тебе «подухариться», как говорили они, вдруг встречают твой спокойный, уверенный, насмешливый взгляд – и осекаются.
«Наша школа на Фонтанке, 62, - продолжает Дмитриев, - была расположена в квартале, ограниченном набережной Фонтанки, улицей Ломоносова, улицей Рубинштейна и переулком Щербакова. Это места сплошной застройки с внутренними дворами. Жилые дома примыкают друг к другу, и по крышам можно обойти весь квартал. Весной ребята из класса, и мы с Сергеем в том числе, выходили через чердачное окно на крышу соседнего со школой дома на Фонтанке. Оттуда открывался прекрасный вид, и было приятно позагорать на теплом кровельном железе. По крышам мы шли от Фонтанки до самого Сережиного дома № 23 по улице Рубинштейна. Дополнительным развлечением было бросить в водосточную трубу камень или осколок кирпича, что вызывало грохот и переполох, после чего нужно было поспешно скрыться в чердачном окне».
Послевоенное ленинградское детство… Лучший трамплин для творческого взлета трудно изобрести. После Уфы или Казани, широко раскиданных, простоватых на вид, вдруг сразу оказаться в Ленинграде – всё равно что проснуться в огромном таинственном замке. Древние стены с башнями, восточные дворцы, извилистые реки улиц среди каменных берегов… лучших декораций для первых грез не сыскать. Бесконечные темные подвалы, чердаки, крыши, с которых открывается безумный вид, и когда вылезаешь из слухового окна и распрямляешься – захватывает дух и кажется. что ты первый, кто это увидел. И это верно: с таким чувством, с таким волнением первый – ты. Помню: с ужасом и восторгом я стою на скате крыши, почти на самом краю, и гляжу на свою огромную тень на доме напротив. Неужели, – приходит странная мысль – если я осмелюсь и подниму руки – то он, это великан, тоже поднимет? Собравшись с духом, поднимаю. Машу руками – и он в ответ машет мне! Невероятно! Этот гигант мне подчиняется! Завтра снова увижусь с ним. Для будущего писателя, начинающего мечтать и выдумывать, нет ничего лучше таких картин!
Глава шестая. БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ ШЕСТИДЕСЯТЫЕ
Для меня начало шестидесятых было временем счастья – еще не достигнув больших побед, мы уже почему-то их праздновали. Вполне возможно, что рановато начали – потому и не достигли самых вершин? Но как удержаться, когда окружающая жизнь так прекрасна? Моя зарплата молодого инженера была сто двадцать, а в ресторане можно было вполне погулять вдвоем на десять рублей – сухое вино, сациви, цыплята табака. Особенно ценно, если вечера всегда проходят в наилучшей компании – тебя уже знают, как начинающего, но перспективного писателя, ты уже свой в этой великолепной компании молодых литераторов, художников, режиссеров. Мы вместе, мы победили! – с этим ощущением счастья мы и гуляли.
Самым модным местом тогда, безусловно, был ресторан в гостинице «Европейской». Входишь в шикарный мраморный холл (швейцар кланяется и открывает дверь) и чувствуешь себя успешным, элегантным завсегдатаем элитного клуба, посещаемого знаменитостями. Вон ждет кого-то Василий Аксенов, а вот спускается по лестнице великий артист Николай Симонов с дамой. И ты, еще студент, полон гордости - попал в лучшее общество. Атмосфера комфорта, уюта и благожелательности начиналась с гардеробщика, добродушнейшего Ивана Павловича. Лишь самые знаменитые здоровались с ним за руку, но он помнил и нас, юных пижонов, и встречал всегда радушно. Привыкать к светской жизни надо с молодости – если упустил время, то уже никакие деньги не помогут. Раздевшись и оценив себя в зеркалах, мы поднимались по лидвалевской мраморной лестнице. На площадке второго этажа раскланивались со знакомыми. Более элегантных женщин и, кстати, мужчин, чем тогда в «Европейской», я больше нигде и никогда не встречал. Откуда в конце пятидесятых вдруг появилось столько красивых людей – уверенных, элегантных, изысканных, входивших в роскошный зал ресторана спокойно, как к себе домой? Впрочем, «Европейская» всегда была оплотом роскоши, вольномыслия и некой комфортной оппозиции - и при царе, и в революцию, и в годы нэпа, и в сталинские времена. Мол, вы там выдумывайте свои ужасы, а мы здесь будем жить по-человечески: элегантно, вкусно, любвеобильно и весело – и нас уже не переделать, можно только убить.
И вот входишь в любимый зал с высоким витражом над сценой, где сам Апполон летит на тройке по розовым облакам, кругом - мрамор, яркие люстры, старая зеленоватая бронза, огромные китайские вазы. Ножи, вилки, икорницы и вазочки для жюльенов из тяжелого светлого мельхиора, рюмки и фужеры из хрусталя. Говорю абсолютно серьезно: окунуться в эту атмосферу, почувствовать себя здесь уважаемым и желанным - не было лучшего воспитания для нас.
На сцене под Апполоном царствовал красавец с пышными усами – руководитель оркестра Саня Колпашников, всеобщий друг и любимец. Играли музыканты зажигательно, и кто только из городских знаменитостей не плясал под их дудку!Вспоминаю праздник своего первого гонорара в ресторане «Европейской». Гонорар тот был – как сейчас помню, – сорок рублей за короткий детский рассказ. Что сейчас позволишь себе на эту сумму? А тогда удалось снять отдельный кабинет, ложу, нависающую над залом, туда вела отдельная узкая деревянная лестница. Приглашены были друзья – писатель Андрей Битов, физик Миша Петров - впоследствии знаменитый ученый, дважды лауреат Госпремии, - и пять красавиц-манекенщиц из дома моделей. Мысли о том, что сорока рублей может не хватить, даже не возникало. Их хватило вполне и даже с лишком.
– Раскиньте же нам, услужающий, самобранную скатерть как можно щедрее – вы мои королевские замашки знаете! – этой фразой из любимого нами Бунина мы обычно предваряли наш заказ, и официанты нас понимали. Какая жизнь была в этом ресторане когда-то, и неужели мы ударим в грязь лицом перед великими, что пировали до нас?! На столике появилась горбуша с лимоном, обезглавленные, слегка хрустящие маринованные миноги, лобио из розовой, в мелких точках фасоли, размешанной с молотым грецким орехом… ну – бутылочек восемь гурджаани…
– Бастурму попозже? – понимающе промурлыкал официант.
– М-м-м-да! Насытившись и слегка захмелев, мы благожелательно осматривали зал. Красавицы наши, измученные модельным аскетизмом, слегка ожили, на их впалых щечках заиграл румянец. – Хересу! Бочку хересу! – крикнул я официанту, и бочка приплыла. Погас свет, во тьме заходил лучистый прожектор. И со сцены ударила песня – «Вива Испания» – самая удалая, самая популярная в том сезоне, и все, вскочив с мест, выстроились и запрыгали цепочкой, вместе с Колпашниковым, выкрикивая в упоении: «Вива Испания!». Не знаю, были ли в зале испанцы – вполне хватало нас. В те славные годы иностранцы еще не повышибали нас из всех кабаков, как это случилось в семидесятые. Так что - «Вива Испания!»Мы еще не отдышались, как рядом появился гардеробщик Иван Палыч. – Там вашего писателя вяжут! – дружески сообщил он. Мы кинулись вниз по знаменитой лестнице архитектора Лидваля. Андрей Битов был распростерт на мраморном полу. Четыре милиционера прижимали его конечности. Голова же его была свободна и изрыгала проклятия. – Гады! Вы не знаете, кто такой Иван Бунин!– Знаем, знаем! – приговаривали те. Доброжелательные очевидцы сообщили подробности. Андрей, сойдя с лестницы, вошел в контакт с витриной, осерчавши, разбил ее, и стал кидать в толпу алмазы, оказавшиеся там. Набежали милиционеры, и Андрей вступил, уже не в первый раз, в неравный бой с силами тоталитаризма. – Небось, Бунин Иван Алексеич. не гулял так! – сказал нам интеллигентный начальник отделения, куда вскоре нас привели. – Ну как же! – воскликнул я. – Вспомните – в девятом томе Иван Алексеевич пишет, что однажды Шаляпин Федор Иваныч на закорках из ресторана его нес. – Ну тогда другое дело! – воскликнул начальник. И тут в это невыразительное подвальное помещение вошли, сутулясь и слегка покачиваясь (видимо, от усталости) наши спутницы. – Вот девушки хорошие у вас! – окончательно подобрел начальник. И мы вернулись за наш столик. Увидев нас, Саня Колпашников радостно вскинул свой золотой саксофон. – Моим друзьям-писателям и их очаровательным спутницам!И грянуло знаменитое «Когда святые маршируют»! Мы снова бросились в пляс. Чем заслужили такое счастье тогда? Наверное, это был аванс, и мы потом постарались его отработать. Вечер этот, можно сказать, оказался важным, «столбовым», одним из тех, что характеризуют то время. Удивительно, что писатель Аксенов Василий Павлович тоже оказался участником тех событий. В тот самый вечер он тоже находился в ««Европейской», но в ресторане «Крыша» на пятом этаже. Ресторан этот тоже был популярен, но считался попроще. Василий Павлович спускался уже вниз с Асей Пекуровской, женой Довлатова, бывшего тогда в армии… или уже нет? Если он и появился уже в городе, то сильного впечатления это не произвело. А по хладнокровной Асе вообще невозможно было понять – здесь Сергей или нет, и какие у них на этой стадии отношения. Всегда прекрасна, улыбчива, весела – и непроницаема. И вот, спускаясь по знаменитой лестнице, выстроенной гением северного модерна Федором Лидвалем, Ася и Вася заспорили, есть ли в Питере хорошие писатели – или все, подобно Аксенову, уже в Москве?– Назовите кого-нибудь! – требовал Аксенов. И тут они увидели распластанного на полу Битова. – Вот, пожалуйста, один из лучших представителей петербургской прозы! – указала Ася, и они пошли на такси. Об этом я узнал через много лет из уст Аксенова, и снова восхитился: какая же бурная тогда была жизнь! Как густо роились таланты!Сейчас я иногда бываю в «Европейской», но на тот прежний гонорар там можно выпить только полчашечки кофе. Поэтому богема гуляет теперь в других местах, «на много этажей ниже». Возвращаясь к тем годам, вспоминаю другой эпизод. В тот вечер я забежал в «Европейскую» на минутку – я ждал дома гостей и хотел купить несколько банок знаменитого тогда ярко-оранжевого сока манго, который был тогда только в «Европейской». Но – какие проблемы? Заскочить туда для нас было так же просто, как в магазин. Я решил даже не заходить в большой ресторан на втором этаже – можно все сделать в небольшой, уютной, более «домашней» «Крыше» на пятом. Поднявшись на лифте в невысокий зал ресторана под стеклянными сводами, я подозвал знакомого официанта, договорился с ним и присел в ожидании за крайний круглый стол, накрытый накрахмаленный скатертью. Рассеянно оглядел зал – знакомых никого поблизости не увидел. И слава богу – загуливать я в тот день не планировал, стремился домой встречать гостей. И вдруг приятный женский голос окликнул меня от дальней стенки: «Валерий!» Кому я понадобился? Сколько благих намерений загубила «Крыша»! Сколько раз заходил сюда скромно поужинать, без вина, а заканчивалось… Я подошел. За столиком в дальнем углу сияла Ася. С ней был Василий Аксенов – пара эта была уже не раз зафиксирована в светских хрониках. Аксенов поздоровался вежливо, но несколько сковано. То ли ему было все же как-то неловко светиться с женой опального писателя, сосланного, подобно Лермонтову и Пушкину), то ли блистательная Ася уже утомила его своим блистанием, и он, казалось, охотно бы сейчас ушел и вздремнул, вместо того чтобы опять демонстрировать себя очередному ее питерскому знакомому. Я тоже слегка приуныл. Зря подошел. Не то чтобы я не любил Аксенова – я его обожал, как многие тогда. Замечательные его сочинения, мудрые и веселые, да и он сам, небрежно-элегантный, обаятельный! Трудно было смотреть, не щурясь, сердце выпрыгивало из груди, невозможно было вести с ним обыденную беседу – вместо того, чтобы выпалить, как ты любишь его! Помню, даже в Коктебеле, где мы познакомились, я с томительным чувством избегал вечером набережной, где все прогуливались, чтобы лишний раз не встретиться с ним и не разволноваться. И вот – встреча лицом к лицу! Волновался не только я – волновался, как мне почему-то показалось, и Аксенов. Лишь Ася была невозмутимо-прекрасна. Она уже продемострировала свою роль в истории литературы и продолжала в этой роли блистать. Теперь, наверное, что-то должен продемонстрировать я, ее питерский друг и, очевидно, поклонник – и тогда этот эпизод светской хроники будет безукоризненным, хоть завтра в мемуар!Не могу сказать, что я был в Асю влюблен – но и не скажу, что меня так уж обрадовало ее кокетничанье с более блистательным партнером, который, к тому же, и меня сводил с ума, и значительно в большей степени, чем Ася. – Как там… Сережа? – вдруг брякнул я. Ася вдруг смутилась, что ей было крайне несвойственно. – Пишет… Утверждает – “Я ифе фкафу фое фофо в ифкуфе” (я еще скажу свое слово в искусстве)! – дурашливо шепелявя, проговорила она, пряча, как показалось мне, за этой дурашливостью столь нехарактерное для нее смущение то ли неловкостью ситуации, то ли неловкостью за своего мужа-увальня, не достигшего тех высот, на которых она сейчас блистала. А где сейчас ее несчастный муж? – подумал я – Решил, не достигнув успеха «влет», поразить нас теперь «суровой правдой» об армии? Набирается жизненного опыта? Нет уж, это в прежнее время было модно, а сейчас с таким затхлым багажом только пуще опозорится. Неужто умнейшая Ася это не понимает? Она-то как раз понимает, поэтому и сидит здесь с другим. Отлучаться из литературы нельзя – тем более надолго. Пропусти хотя бы год – и тебя забудут, и на твоем месте заблистает другой. Такое уж время было блистательное – гении появлялись, как грибы… И к чему это она произнесла? Неужто вдруг надеялась, что все сейчас вдруг заткнутся, перестанут блистать и начнут терпеливо ждать, пока какой-то двоечник, вылетевший из университета, отслужит в армии, потом вернется, вытащит из драного рюкзака свой «дембельский альбом» и что-то промямлит! Неужто он в своей глуши не соображает, что здесь, на Олимпе, это неинтересно уже никому? Бедный Серега! И зачем я только про него спросил!– Садитесь! – пышноусый и великодушный Аксенов подвинул стул. – Нет, спасибо! Спешу! У меня гости. – Кто? – дружелюбно поинтересовалась Ася. – Москвичи, Арканов и Горин. У них премьера в Театре комедии. Обещали зайти. – Тогда мы тоже пойдем к вам! – радостно сообщила Ася, правильно сообразив, что перемена декораций уместна и может взбодрить московского гостя: перед знаменитыми коллегами-москвичами и Вася блеснет!Потом мы ехали в такси по темной улице Белинского, и великолепный Василий Павлович, пытаясь тактично поставить себя на один уровень с нами, грешными, благодушно ворчал, что снова болит нога, как бы отрезать ее не пришлось, и пытался поудобнее расположить ее в тесном и темном салоне машины. – Вы и без ноги будете великолепны! – произнесла блистательная и безжалостная Ася. Потом мы поднялись в мою квартиру (вернее, комнату) на Саперном, вскоре пришли веселые Арканов и Горин – с успехом, цветами и очаровательной исполнительницей главной роли в их спектакле «Свадьба на всю Европу» – и вечер заиграл!– …В Америку меня сопровождал полковник, – своим очаровательныи сипловатым тенорком говорил Аксенов. – Главное, все старался мне показать, что эта роскошь для него – дело привычное! «Я этих висок… каких только не пил!» Все смеялись и были счастливы. Вечер удался Да еще бы ему не удасться – в такой компании! А где же в это время был Сергей?…Фактически – нигде. Уже бывает в Ленинграде, но из армии еще не ушел. Положение было неопределенным. Донат Исаакович в это время ставил спектакль в другом городе. К счастью для нас и для истории, потому что Довлатов опять писал письма отцу о ленинградских впечатлениях, и письма эти тоже сохранились. Он сообщает о своих поездках в Комарово, писательскую Мекку под Ленинградом. Правильно выбирает маршруты! Родственник его сводной сестры по отцу Ксаны Мечик, которой он все время передает приветы в письмах, работает директором Дома творчества писателей в Комарово, и Сергей общается с юной Ксаной – и приглядывается к писательской жизни, даже играет партию в городки с каким-то неизвестным ему писателем – и, без сомнения, выигрывает!
АВТОРА!
"Эмиграция сыграла в жизни Довлатова положительную роль"
На вопросы корреспондента "КП" ответил автор книги Валерий Попов
- Когда вы писали эту книгу, вам удалось хотя бы приблизиться к объяснению феномена популярности Сергея Довлатова?
- Мне кажется, да. Понимаете, Сергей был прежде всего писателем, а уже потом всем остальным. И как по-настоящему хороший писатель, он преобразовал события своей жизни в прекрасную прозу. Которая, однако, мало общего имела с действительностью. Фактически Довлатов своими руками создал вокруг себя миф, в который все поверили. Но ему этого было мало - он всю жизнь пытался соответствовать своему лирическому герою и в жизни. Кому-то, может быть, покажется странным, но это была во многом саморазрушающая работа. В своей прозе он ведь конструировал образ такого аутсайдера, который иронично смотрит на все со стороны. В жизни он был, конечно, практически прямой противоположностью этому образу. Но ближе к своей смерти Довлатову, кажется, все же удалось превратиться в свое литературное альтер эго. И это его в конечном счете и погубило.
- То есть жизнь в эмиграции как-то подтолкнула его к превращению в героя своих книг?
- И да, и нет.. Я, напротив, считаю, что эмиграция сыграла в жизни Довлатова положительную роль. В Штатах он очень быстро стал первым парнем на деревне - прежде всего, для своих читателей на Родине. Другое дело, что появились и проблемы, с которыми он прежде не сталкивался - нужно было постоянно платить за квартиру, общаться с литературными агентами, привыкать к реалиям рыночной экономики. Впрочем, и с этим он прекрасно справился. Он ведь сам любил повторять, что в России у него постоянно заканчивались деньги, а в Нью-Йорке такого не происходило никогда. Не исключено, правда, что это тоже миф. В Штатах он начал сознательную работу над превращением себя в своего же литературного персонажа. в отрыве от Родины делать это было гораздо проще.
- А почему Довлатов не вернулся на Родину - в конце 80-х ведь у него был такой шанс.
- Я склонен объяснять это стечением обстоятельств. Просто не сложилось. Он планировал хотя бы просто поездку в Россию. И наверняка бы приехал, если бы не умер в 1990 году.
- Помимо его художественных произведений сохранилась масса писем Довлатова - отцу, женам, литературным агентам. В письмах он был настоящим?
- Сложно сказать. Он хранил почти все свои письма, понимая, что рано или поздно их опубликую как наследие великого писателя. Но именно поэтому он отдавал себе отчет в том, что даже в личной переписке необходимо держаться созданного им образа. Так что он, конечно, приукрашивал. Но тем интереснее сейчас изучать его биографию - скучным человеком Довлатов точно не был.