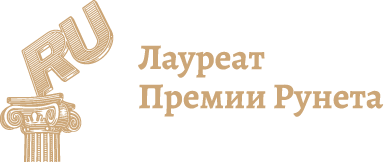Режиссер Алексей Герман - президенту Борису Ельцину: «Россию люблю, но очень нужны деньги!»

Подарок, который он сделал себе к юбилею, - смонтированная, но пока не озвученная картина по повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Я была на съемках и видела отснятый материал - то и другое породило во мне ни с чем не сравнимое переживание.
- Алеша, что ты понял за жизнь о жизни?
- Я как-то к 70 годам растерялся. Все мои мысли о жизни сейчас состоят из банальностей. Допустим, я понял, что действительно все те поэты, которые писали «жизнь прошуршала, как платье твое», или «будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне», или еще более оглушительное типа «жизнь прошла, как Азорские острова», - что все они правы. Действительно, я вчера пришел из школы и бросил портфель, у меня вчера умирал и хрипел отец, а я, молодой человек двадцати восьми лет, сидел под дверью, а потом сказали: все. Вот меня распинает за мои фильмы начальство, вот появляется в «Комсомолке» статья некоей Кучкиной, первая, где меня похвалили за «Двадцать дней без войны», а Ермаш кричал: она что, не знает, что мне фильм не понравился!..
- Была фантастическая история, когда статья приснилась жене Свете под утро.
- Я вообще верю в сны под пятницу. Тот сон был счастливый, когда Светка разбудила: иди в киоск за газетой, мне приснилось, там хорошая статья про тебя.
От Ушана до Ушана
- Но сны под пятницу бывают и очень плохие. Как было накануне тяжелой моей болезни недавно - мне страшно стало, когда показали фотографию тех дней: я был мертвый папа. Папа звал меня Ушан. У меня были большие уши. Ну никто не скажет, что у меня большие уши. Уши и уши на толстом лице. А тут я сбросил 30 килограммов и стал тощий, обвислый, человек с огромными ушами. И опять стал Ушан... То есть ощущение, что никакой жизни, собственно, и не было, а были мгновения, минуты, и они были совсем недавно. Это одно. А второе - к старости начинает дико не хватать родителей. Понимаешь, у меня как что-нибудь случится, я думаю - надо позвонить маме. Очевидно, какое-то сближение с потусторонним миром. Сейчас все верят в Бога со страшной силой, хотя в то, что страна стала клерикальной, я лично не верю...
- Люди ищут спасения от чего-то...
- Это заменяет бессмысленность существования, непонятность того, куда мы идем. Допустим, Рузвельт, исполняя мечту Америки, сказал: вот у вас будет дом, вот машина - и ему поверили американцы. У нас такой веры нет. Потому что нам столько раз все обещали... А почему я не верю в религию - потому что кровь не сдают. Для меня вся религия - в десяти заповедях, остальное я читать не могу. Я читал Карсавина, я читал Бердяева. Но после ста страниц у меня начинает кружиться голова. При том что религия у меня не прерывалась: верила бабушка, верила мама, и я молился в сортире, потому что стеснялся даже их... Кроме десяти заповедей, мне ничего больше не надо, потому что дальше наживаются священники. Может быть, связано со страхом смерти, а может, с общим пониманием жизни, но к 70 понимаешь, что не знаешь ничего. Мы можем как угодно надуваться, трактовать философов, Толстого, говорить, что Бог умер, по Ницше, - мы не можем себе представить бесконечность, мы не можем себе представить, пересекаются ли параллельные прямые. Мы не знаем, от кого мы произошли. Говорят, от обезьян. Но у меня-то ощущение, что обезьяны произошли от нас.
- Что тебя сформировало?
- Я не знаю что. Я думаю, что в огромной степени папа. Он был человеком в чем-то наивным, в чем-то актерствовал. Хотя мудрость в нем была. Он мог возбудиться и поверить Хрущеву. Обожать его. А потом прийти от него в ужас. При Сталине он обожал Сталина. Потом мама ему сказала, что это дьявол и что в аду он будет грызть собственные кости. Они в это время изготовляли меня, папа был женат на другой женщине, и они с мамой были страстные любовники. Он сел в кровати от ужаса - что она такое говорит? Но задумался. А мама подумала: донесет. Когда она ему это рассказала, он с ней чуть не прервал отношения. Уже после войны папа попал в колонну наших пленных, которых гнали из Норвегии. Майор, с четырьмя орденами, он увидел, как они идут на корточках, как их бьют конвойные, лают собаки - это на него произвело страшное впечатление. У папы было свойство, которого нет у меня. Он влюблялся в людей.
- Но я смотрю твой фильм «Мой друг Иван Лапшин» и понимаю, что ты тоже любишь этих людей.
- Понимаешь, в «Лапшине» я себя почувствовал Богом. Потому что, перечитав папину повесть в очередной раз, я вдруг понял: это же про них, про папу, про маму, про переводчика Стенича... И вдруг ощутил, что нахожусь в положении Бога. Это книга, где они мечтают о том, как будут жить через год-другой, в 37-м, в 42-м, сколько будет шампанского... Но я-то знаю, что этого ничего не случится. Более того, я знаю, что случится. Вся бригада Лапшина были василеостровские немцы, и их всех расстреляли. Кроме самого Лапшина, который стал генералом. Я знаю, что знаменитый переводчик с немецкого Стенич со сломанными ногами будет ползать по камере и всех уговаривать давать идиотские показания насчет продажи японцам «тормоза Матросова».
- Это что такое?
- «Тормоз Матросова» - на каждой теплушке было написано. Следователи были небольшого разума, а он считал, что на суде увидят «тормоз Матросова», и его освободят. Но их никого не судили. Просто расстреляли. А с ним сидел мой дядька, муж маминой сестры, технарь, который не признался ни в чем, ему сломали копчик, выбили зубы, но он вышел на свободу...
- Давай не про дядьку, а про тебя.
- Я не хотел быть режиссером. Я хотел быть врачом, я ходил на курсы в медицинский институт. Я хотел быть артистом и в БДТ играл на сцене. Чем я был уникальный специалист - я был шумовик. Я уникально умел цокать, мне на руки надевали такие штуки, и я как бы цокал копытами...
- Как же случилось, что ты в режиссерах оказался?
- Меня папа просто умолил. Я кончал школу дико рано - в 15 лет. Он сказал: ну до армии тебе прыгать и прыгать, попробуй поступить на режиссерский, я тебе не буду помогать. Папа при крещении был Георгий. Юрий - это псевдоним, он перешел в военный билет, военный билет перешел в паспорт, и папа закрепился как Юрий Герман. А я - Георгиевич. И никто не знал, чей я сын. Прошел три тура. Но оказалось, что дальше для меня все закрыто, потому что в первую очередь принимали взрослых, с высшим образованием. И вот тогда мама позвонила Григорию Михайловичу Козинцеву и Ольге Федоровне Берггольц, и втроем они отправились к Вивьену, возглавлявшему режиссерский факультет. И когда я явился на собеседование, готовый увидеть мрачные лица, они сияли, как медные самовары: как похож, как же мы не поняли! И приняли... Я был, как мне кажется сейчас, очень сложный человек для мамы и особенно для папы. Один раз он мне дал пощечину. Я пришел в девять часов утра после встречи Нового года. Они обзвонили все морги. Я понимаю сейчас, что он был прав. Но для меня это было ужасное оскорбление. Я ушел из дома и из школы, жил на вокзалах. Потом меня заманили домой под предлогом, что у мамы плохо с сердцем. Но я закрылся абсолютно. Я делал вид, что такого человека в доме нет. Теперь я понимаю, что он выстрадал...
От манекенщицы до сценаристки
- Лешенька, а если мерить такой мерой: от жены-манекенщицы до жены-сценаристки, - что это за путь?
- Жена-манекенщица - это был брак какой-то странный. Верочка была прелестная, добрая девочка. И ей очень хотелось выйти за меня замуж. А мне было все равно, я к ней хорошо относился, почему отказать человеку в такой малости - поставить штамп в паспорте? Я до сих пор чувствую себя дурным человеком. Я ее ввел в другой мир, в богемную среду, а когда это кончилось, все вернулось на место: бабушка - ткачиха, мама - маленький инженер... Мы были несовместимы совершенно.
- А со Светой вы совместимы?
- Со Светой мы совместимы. Более того, мы сорок лет любим друг друга. И мы очень хорошая, сильная семья, потому что помогаем друг другу. Она очень тянет в моей профессии, и как человек пишущий, с хорошим литературным вкусом, и как критик, и вообще она моя правая рука, правая нога и правый глаз. Или левый...
- Как ты ее нашел?
- 21 августа 1968 года я прилетел в Коктебель. День был странный. Я запускался через две недели с фильмом «Трудно быть богом», был написан сценарий с Борей Стругацким, найден главный герой - Володя Рецептер... Я прилетел в Коктебель, а наши войска вошли в Чехословакию. На скамейке рыдал Аксенов, были Борщаговские и с ними какая-то такая девица, их дочка. Она меня сразу позвала пить пиво. И как-то понравилась мне. Я приехал туда, как солдат с заставы в деревню, поэтому обратил внимание на всех дам. Но Светка уехала, я заскучал и тоже уехал за ней в Москву. Так все началось.
- Как ты сам думаешь, что ты сделал в кино?
- Понимаешь, я для себя понял, что все мировое кино, с его Каннскими, Венецианскими фестивалями, кончается. Умерли великие мастера. И, как у Самойлова: «смежили очи гении, и, когда погасли небеса, словно в опустевшем помещении стали слышны наши голоса». Наши голоса жалкие по сравнению с голосами Феллини, Куросавы, Бергмана. Самое главное, что диктовать правила игры в кино стали не интеллектуалы, типа Сартра, к примеру, а совсем другие люди. И когда директор Эрмитажа Пиотровский говорит о том, что кино - это даже не площадное искусство, это вообще не искусство, я согласиться с ним не могу.
- Но ты снимаешь, как снимаешь, не потому что хочешь что-то доказать...
- Нет. Просто на каком-то этапе я понял, что надо менять язык. Я смотрю на тебя - показывают меня, потом тебя - два раза. И зритель знает: влюбился. Или показывают меня и кусок хлеба - я голодный. Я не сравниваю себя с великими, но я предлагаю другой киноязык. Не то, что человек рассказывает, а что он ощущает, что с ним на самом деле в это время происходит!
От Ельцина до Путина
- Ты жил в хрущевское время, с оттепелью и заморозками, в брежневское, в горбачевское и далее. В чем разница? Или без разницы?
- Я понимал, что делал Хрущев, и сочувствовал ему. Я был очень увлечен Горбачевым. Я был очень увлечен Ельциным. Я был очень увлечен Путиным, сейчас я его не понимаю, возможно, он прав, я просто не понимаю - все и так за него, зачем стучать кулаками? Я понимал и жалел Ельцина. У меня было замечательное выступление в Кремле, когда его все клеймили. Это были такие антифашисты, и они его ругали за то, что появились фашисты. А потом всех повели обедать, и там продолжали его клеймить. И когда слово дали мне, я встал и сказал: Борис Николаевич, не слушайте их никого, а вы, если вам так все не нравится, чего пришли обедать, высказались - и домой. Сел. Страшная пауза. В это время официант меняет посуду. А Светка, поскольку я шел в Кремль, дала мне пачку денег, потому что не утратила иллюзий, что там можно что-то купить дефицитное. И я эти деньги подложил под тарелку. Официант поднял тарелку. Олег Басилашвили, который сидел рядом, говорит: тебе деньги принесли? Я говорю: да. За что? За выступление. Он говорит: и что, тебе за это платят? Я говорю: не всегда, но вот, видишь, заплатили же. Он: ты должен встать и отказаться от этого, иначе я не подам тебе руки. Я говорю: Олег, я не могу, но ты встань и от моего имени и от своего все это скажи. И Олег стал вставать. А у меня нос куда-то поехал от смеха. И он, артист, человек, в общем, тонкий, посмотрел и говорит: какая же ты сволочь... А я говорю: какая же я сволочь, Олег, может, нас и вышибли бы отсюда, но ты бы вошел в историю... Подошел Ельцин, обнял меня, засунул к себе под пиджак, он огромный был, и говорит: «Россию любишь?» Я говорю: «Борис Николаевич, дали бы вы мне деньги на картину, я совсем задыхаюсь, пропадаю». А он мне под пиджаком: «Россию любишь?» Я говорю: «Люблю, но очень нужны деньги». А он говорит: «Ну, если Россию любишь, все будет в порядке». Вытолкнул меня из-под пиджака и ушел.
- Леша, когда ты показывал мне материал «Трудно быть богом», ты говорил, что в какой-то мере думал о Путине как прообразе Руматы...
- Я не могу сказать, что там существует Путин. Там существует любой человек, который обладает властью Бога. Как ни крути, но совершить что-то почти невозможно. Любовью - не получается, резней - не получается. Все равно это трагедия человечества. Оно будет топтаться, напиваться, пропивать, воровать, верить, подхалимничать, бояться, переставать бояться и предавать. Человечество будет двигаться сантиметрами. Но... Мне сказал замечательный Ростропович: я вот верю в Бога, и что ни попрошу, Он все сделает. Сделал Он что-нибудь, когда у Славы обнаружился рак? Разве Бог - компьютер, который что-то набирает? И тебя, и меня?
- Это тайна, которую нельзя открыть.
- Об этом картина, собственно. Если «Хрусталев, машину!» я делал об изнасилованной России... Почему там главная сцена насилия? Потому что это страна, которую изнасиловали. А этот фильм о том, что Бог не виноват - мы виноваты. Он старается, университеты строит, а все крадут, режут друг друга по пьяной лавочке. Рабы отказываются снимать колодки...
- О тебе говорят, что ты долго снимаешь кино, потому что, когда кончается кино, кончается жизнь...
- Я снимаю кино, которое еще и живопись. Мне главное - блик, глаз актерский, и если глаз в эту минуту не тот, мне нужно, чтобы, пересекая его, шла капель или голубка пролетела. Я работаю достаточно тонкими инструментами. Мне нужно, допустим, чтобы каждый кадрик был похож на Босха, а это требует большого времени.
- Отчего ты бываешь счастлив?
- Я почти не бываю счастлив. Я боюсь чего-то, нервничаю, схожу с ума, а потом это вдруг все разрешилось, и даже очень хорошо, вот этот материал «Трудно быть богом» бешено расхвалили, ты в том числе, и когда очень хороший редактор звонит и на меня кричит, почему я все время отшучиваюсь, я говорю: ну а что я могу сделать, я же всерьез про себя такое принять не могу!
- А несчастлив бываешь?
- Да, очень часто. Если не врать, почти все время. Иногда в компании похохочу, но как-то вокруг и компании не осталось. Почти все поумирали, а остальные моложе меня намного. Они живут чем-то другим, им что-то предстоит. А мне что предстоит?..
- Что ты будешь делать после этой картины, ты уже знаешь?
- Знаю. Я постараюсь со Светкой написать о маленьких городах России. Мне там очень нравится, там смешно, там люди какие-то... Хотя и пьют сильно, но они по-своему счастливы в отличие от мегаполисов. Приехать туда и между ними поселиться нельзя. Они тебя не примут. Меня приняли только в одном месте, там лежали доски, на которых мужики сидели и курили, иногда кто-то шел выпить самогона и назад...
- А почему они тебя приняли?
- Потому что там жил папа мой, и он много им делал добра. И я имел право сидеть с ними на досках. Так же, как в театре у Товстоногова, где я два года был режиссером, пальто висели по ранжиру: здесь Товстоногов, здесь Копелян, Лебедев, Луспекаев, а в другом месте висели другие артисты. И перевесить пальто было нельзя. И когда Георгий Александрович сказал мне: Леша, вы очень устаете, вот вам ключ от моего кабинета, можете там отдыхать, - то я спустился, взял свое пальто и перевесил на четыре ряда ближе. И гардеробщица ничего не сказала.
БЛИЦ-ОПРОС
- Что значит красиво стареть?
- Продолжать ухаживать за женщинами. Иметь молодую любовницу. Я не знаю. Может, красиво стареть - это глупо стареть.
- К тебе не относится?
- Ко мне не относится. К старости приходит мудрость и ощущение, что жизнь как-то зря прожита. Даже если ты удачный и получил заслуги перед Отечеством, все равно.
- Какая у тебя главная черта характера?
- Мнительность.
- А какая черта характера тебе нравится в других людях?
- Уверенность.
- Есть ли у тебя девиз или жизненное правило?
- Не подличать особенно, когда нет нужды. Да и когда есть нужда, тоже не подличать.
- Если бы ты не стал кинорежиссером, кем бы ты стал?
- Я стал бы врачом.
ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Алексей Герман. Родился в 1938 году в Ленинграде в семье известного писателя Юрия Германа. Окончил Ленинградский театральный институт. Автор фильмов «Седьмой спутник», «Проверки на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!». Соавтор - жена Светлана Кармалита.